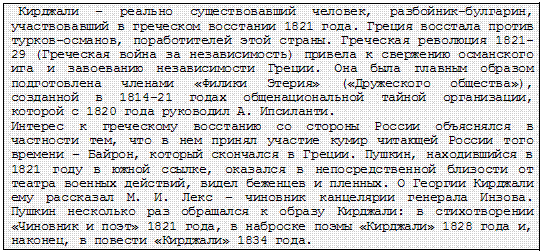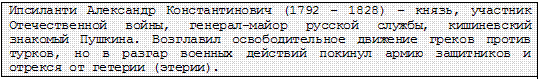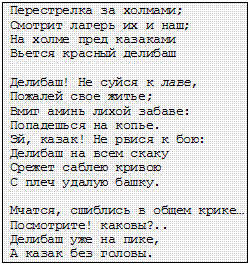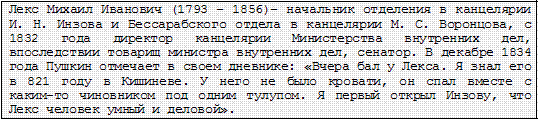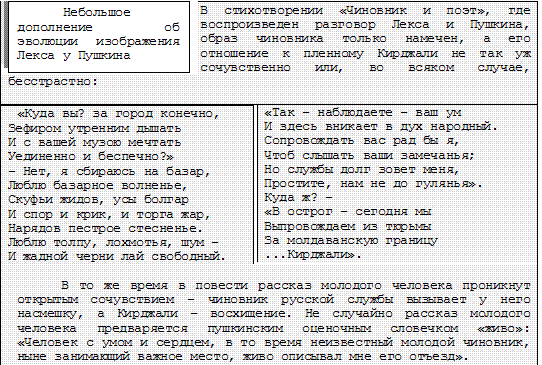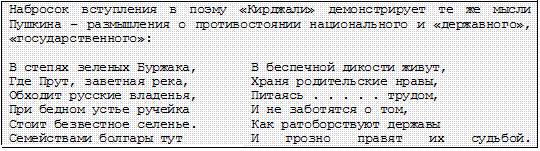(авторская позиция в повести «Кирджали»)
Опубликовано:
Проблемы изучения литературы: Историч., культурологич., теоретич. и методич. подходы: Сб. науч. тр. Вып II. Челябинск, 2000. С. 51–70.
Организм пушкинского наследия един – возьмем малое, а в нем, как в капле, отразится целое.
Повесть «Кирджали» счастливым творением Пушкина не назовешь. И в собрания художественной прозы ее не включали, и на уровне публицистических произведений Пушкина не очень исследовали. Попробуем просто медленно прочитать эту несправедливо отодвинутую на периферию литературоведения повесть, чтобы ощутить, как неисчерпаемо пушкинское наследие.
«Кирджали» – словечко экзотичное, что за ним скрывается – неизвестно. Заглавие несет в себе загадку. Сложность порождается двойственностью «обращенности» заглавия: одновременно «во вне» (к читателю) и «внутрь» (к тексту, который оно обозначает). Именно поэтому заглавие оказывается «проспективно» (оно предваряет наше знание о тексте, «обещает» текст) и «ретроспективно» (по окончании чтения читатель возвращается к заглавию, осмысляя его только теперь в совокупности тех смыслов, что заложены в нем автором). Первая же фраза повести – разгадка («Кирджали был родом булгар») – может быть интерпретирована как «Кирджали – человек Востока». Это ударный момент ха-рактеристики. Читатель, однако, не расшифровывает название однозначно: ну и что, что булгар? Булгар – это восточная модель поведения, но она не сформирована в сознании русского человека как устойчивая. Поэтому дальше идет объяснение: «Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю». Так задается тема «героя». «Восточный» человек должен быть отважным. Но далее следует второе «мнение» – это разбойник, причем именно в значении «бандит», а не «благородный мститель», например. История о разграблении села, когда Кирджали со своим товарищем вдвоем обращают в бегство целую деревню одним только словом «Кирджали!», подтверждает эту характеристику: «Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу». Статус «бандита» подтверждается и тем, что Кирджали вступает в освободительное движение отнюдь не из-за героических устремлений: «Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться за счет турков, а может быть, и молдаван, – и это казалось им очевидно». Вторая характеристика прямо противоположна первой (энергия витязя направлена на защиту, разбойника – на нападение). Так задаются две доминанты восточного мужского характера – «витязь» («рыцарь») – «разбойник» («головорез»). Дальнейшее развитие характера героя будет представлять собой сложное синтезирование двух этих доминант, которые ока-жутся совсем не столь взаимоисключающими, как кажется на первый взгляд.
Фон развертывания характера героя – внутренняя по отношению к нему оппозиция «турки» – «этеристы». Это однородная сфера, поскольку и турки, и этеристы – «люди Востока», следовательно, их конфликт не антагонистичен. Турки здесь выступают «восточными поработителями», а греки (чья освобо-дительная борьба и получила название «этерии») – «восточными порабощенными». Разумеется, отнести греков к Востоку этнографически не совсем кор-ректно, но в том-то и специфика греческого освободительного движения, что на стороне греков выступают самые разные интернациональные силы, основу которых составляет именно Восток. Неконфликтность столь конфликтных (в историческом плане) отношений как раз и определяется «гомогенностью» участников столкновения (если бы порабощенные и поработители поменялись местами, ситуация нисколько не изменилась бы, а греки вели бы себя так же, как турки). Пушкин в письме В. Л. Давыдову (март 1821 года) отмечает, рассказывая о событиях этерии: «В Яссах все спокойно. Семеро турков были приведены к Ипсиланти и тотчас казнены – странная новость со стороны европейского генерала. В Галацах турки в числе 100 человек были перерезаны; двенадцать греков тоже убиты». Но здесь, помимо подтверждения мысли о гомогенности конфликта (и греки «хороши»), задается оппозиция «Восток» – «Запад».
13 лет спустя после этого письма Пушкин в повести «Кирджали» не будет рассуждать о «европейскости» Ипсиланти – это человек Востока, но отравленный «цивилизованным миром». «Александр Ип-силанти был лично храбр, но не имел свойств, нуж-ных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно… Ипсиланти ускакал к границам Австрии и оттуда послал свое проклятие людям, которых назвал трусами, ослушниками и негодяями». Далее идет ироническая фраза Пушкина: «Эти трусы и не-годяи большею частию погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего». Харак-теристика Ипсиланти двадцатидвухлетним Пушкиным была гораздо более восторженной и сочувственной. В том же письме Давыдову он пишет: «Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал – и, мертвый или победитель, отныне он принадлежит истории – 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! – завидная участь». Ипсиланти «исключен» в повести 1834 года из числа героев именно за то, что ставит ему в заслугу Пушкин в 1821 году – за его «европейскость». Такая модель поведения неуместна в развернувшемся «восточном» конфликте. Ипсиланти предает именно собственную «восточность» – неслучайно он посылает свое проклятие этеристам от границ Австрии, страны «абсолютно» европейской. Таким образом, с первых же строк повести Ипсиланти «отодвинут» в сторону от описания этерии, а безымянный Кирджали оказывается ее героем (разбойник, бандит, голово-рез). Конфликт «Восток» – «Запад» (граница Авст-рии, «европейский генерал») оказывается непреодо-лимым именно в смысле внутренней антагонистичности: индивидуализм западного сознания («был лично храбр») противопоставлен «коллективному» сознанию Востока («не умел сладить с людьми»). Внутренне присущая восточному мужскому типу способность «раствориться» в общем деле подчеркнута второсте-пенностью Кирджали в описаниях сражений. Внимание сосредоточено на подвигах Катагони, Сафьяноса «и других», представляющихся знаками единого восточ-ного мироотношения. Столкновение «западного» взгляда на человека Востока – «негодяй», «ослушник», как говорит Ипсиланти (то есть «бандит», «головорез»), с эмоциональной пушкинской оценкой «отчаянно защищаясь» (то есть оказались «витязями», «удальцами») демонстрирует невключенность авторской системы ценностей в западную модель отношения к этерии и Востоку вообще. Очевидно, что с первых же строк повести Пушкин открыто выражает свою симпатию «восточному» типу поведения. Вооруженное столкновение греков с турками оказывается для него не ситуацией «злодеи» – «жертвы», а конфликтом «равных», где он на стороне греков лишь потому, что они в позиции более героической, чем турки.
«Однородность» восточного мира художественно демонстрируется в повести зеркальным взаимоотражением двух ключевых «восточных» сцен: описания сражения под Скулянами и эпизода бегства Кирджали из турецкого плена. Первая сцена дана в сочувственных интонациях. Очевидно, насколько автору не-безразлична судьба 700 добровольцев, пытавшихся противостоять пятнадцатитысячной турецкой коннице, выставляя перед собой две маленькие пушечки, найденные в Яссах. «Резались атаганами» – 100 человек было убито, около шестисот рассыпалось по Бессарабии. Во втором эпизоде Кирджали находится под стражей: его караулят семь турок (700 арнаутов). Кирджали бежит от своих сторожей, убив одного (100 убито); остальные шестеро, увидев его вооруженным, разбежались (600 рассыпалось по Бессарабии). Вооружен он двумя пистолетами, соотно-симыми с двумя пушечками этеристов. Бегство Кирджали устанавливает текстовое равновесие темы «Восток» – «Восток»: «Кирджали ныне разбойничает около Ясс…». И жестокость кровопролития, и хитрость Кирджали – проявления все той же восточности (он обманывает семерых сторожей, как сказоч-ный герой «Тысяча и одной ночи»). Здесь, в одно-родном мире Востока, все «честно», никто ни на кого не обижается.
Другое дело – тема русских в повести. Вместе с первым упоминанием о них в повесть вводится тема «Севера». «Север» в повести в отличие от «Востока» отнюдь не однороден. Россия по отношению к Востоку предстает не как Запад, а как Север – отличная и от Востока, и от Запада ориентация.
Тема русских («наших») включается в повествование в момент наивысшего напряжения конфликта «Восток» – «Восток», после возвышенных и взволнованных слов о мужестве этеристов, но задается сразу как карикатура. «Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, прибежал к реке, за которой гарцевали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд». Это анекдотическое происшествие показательно. «Север» по отношению к «Востоку» всесилен, как взрослый по отношению к ребенку. Пеший безоружный майор Хорчевский лишь грозит пальцем – этого достаточно, чтобы турки «умчались прочь» и, отказавшись от картечи, вступили в рукопашный бой. Как бы карикатурно ни выглядел «Север», «отмахнуться» от него «Восток» не может. В то же время очевидно, насколько тема «Севера» прозаична и негероична по сравнению с «восточным» типом. Не удивительно, что уже следующая фраза, сообщающая о решающем рукопашном бое, продолжает тему рус-ских в отрицательном ключе: «Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах». Таким образом, русские оказываются на стороне и без того сильного войска. Это объединение (русские и турки против этеристов) вполне предсказывает дальнейшие события – выдачу Кирджали русским начальством туркам. Здесь есть и другой момент, неоднократно отмеченный немногочисленными исследователями повести – объединение мусульманского полумесяца («кривые атаганы») и христианского креста («копья») в борьбе с повстанцами. Не углубляясь в размышления об отношении Пушкина к религиям мира, стоит все же отметить, что Пушкин здесь подчеркивает принципиальную «неразборчивость» разных верований, а за этим стоит еще одно наблюдение: «мусульманство» и «христианство» не антагонистичны, а разделение «Восток» – «Север» (как и «Восток» – «Запад») не имеет религиозной почвы; сфера конфликтности перемещается в нацио-нально-специфическое мироотношение. Столкновение «казака» и «делибаша» в стихотворении «Делибаш» интересно именно авторской позицией – они «оба хороши»: «Полюбуйтесь, каковы: Делибаш уже на пике, А казак без головы». (Марина Цветаева в своей книге о Пушкине отмечает, что она всегда прочиты-вала это стихотворение как историю о столкновении «казака» и «красного беса» (черкеса). Но «воспитанники Пражского университета» хором переубедили ее, что «делибаш» – это знамя, а в стихотворении описана победа черкеса над казаком. М. Цветаева только двенадцать лет спустя, перечитывая стихотворение, обнаруживает, что ее восприятие в семь лет было точнее, чем у студентов университета – равновесие восстановлено, оба героя стихотворения погибают, это очевидно. Пика (крест) и «сабля кривая» (полумесяц) не побеждают один другого, а погибают в равносильном поединке).
Стихотворение «Делибаш»
В «Кирджали» в духе этого стихотворения выдержана сцена гибели Катагони: «Катагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одною рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился».
Кроме «наших» (начальник карантина; чиновник, читающий Кирджали приговор), к той же зоне «Севера» относятся и сам автор, и «молодой человек с умом и сердцем», взволнованно рассказавший автору историю Кирджали после разгрома этерии.
Небольшая информация о М. И. Лексе
С одной стороны, и повествователь, и чиновник связаны с темой «Севера» именно своей «русскостью»: молодой человек не знает молдавского языка, а автор объединяет себя с карикатурно изображенными русскими словечком «наши». Но с другой стороны, сознание их противопоставлено родному «Северу»-диктатору, что очевидно в сочувственном отношении к «восточному» типу, преданному «русским циркуляром» врагу «за ни за что». Таким образом, «Северу» доступно не только самодовольное всевластие, но и умение взглянуть на эту черту самокритически и иронично, в то же время сумев обнаружить в других культурах нечто достойное уважения и восхищения (даже в ущерб собственному национальному самомнению). «Север» оказывается гибким и неоднозначным (неоднородным в отличие от «Востока»), зоной соединения (но не слияния) про-тивоположностей. Очевидно, что внутреннего баланса в этой неоднородности так и не возникает, оппозиция «Север» («наши») – «Север» (автор и молодой человек) не разрешается и не гармонизируется, оставаясь источником трагических конфликтов (вспомним пушкинское «чорт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать»).
В тексте возникает оппозиция «Север» – «Восток» (этеристы). Причем конфликт разворачивается не в обобщенной сфере этих понятий, а между конкретными типами «Севера» (карикатурные «наши») и «Востока» (романтически возвышенный Кирджали). Это столкновение драматически изображено в сцене ареста Кирджали. «Север», воспринимаемый «честным восточным» сознанием как пристанище и убежище, оборачивается коварной западней. Описание Кирджали и его товарищей, живущих в Бессарабии подаянием, располагает к ним: «Они вели жизнь праздную, но не беспутную… Их узорные куртки и красные вос-троносые туфли начинали уж изнашиваться, но хох-латая скуфейка все еще надета была набекрень, а атаганы и пистолеты все еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался». Это уже не «разбойники», а «витязи», переодетые мирными бедняками. Если сравнить описание этеристов под по-кровительством России в повести с третьим письмом Пушкина о греческом восстании, то разница окажет-ся еще более очевидной, чем в случае с Ипсиланти: «толпа трусливой сволочи, воров и бродяг, которые не могли выдержать даже первого огня дрянных ту-рецких стрелков… ни малейшего понятия о военном деле, никакого представления о чести, никакого энтузиазма – французы и русские, которые здесь живут, выказывают им вполне заслуженное презре-ние; они все сносят, даже палочные удары, с хладнокровием, достойным Фемистокла… я… негодую, видя, что на этих ничтожных людей возложена священная обязанность защищать свободу». Здесь, как видим, трансформация прямо противоположна случаю с оценкой Ипсиланти – от гнева и негодования к ро-мантизации и сочувствию 10 лет спустя. Первые эмоции по поводу поражения греческих повстанцев сменились глубоким осмыслением «восточной» модели поведения, а «мирность» «известнейших клефтов Молдавии», расцененная в письме 1823 года как «трусость», воспринимается теперь как благородст-во и признательность «России за ее покровительство».
Обстоятельства ареста Кирджали возвышают героя до библейских сюжетов. Он схвачен «в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами». «Тайная вечеря» Кирджали увенчивается краткой речью, обращенной к арестовавшим его русским: «Он не стал отпираться и признался, что он Кирджали. «Но, – прибавил он, с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я, конечно, разбойник, но для русских я гость… Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» Противостояние двух доминант восточного характера органично уместилось в одном человеке – он и разбойник, и витязь. Но для Пушкина «разбойничья» сторона теперь не так важна. Как только Кирджали попадает в систему «Север» – «Восток», он становится благородным рыцарем и отважным воином (по контрасту с русской линией повести). «Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны и убежденное в справедливости требования, повелело отправить Кирджали в Яссы». Так подчеркивается, что для «наших» люди Востока – лишь «ослушники и негодяи». «Русская линия» вновь становится окарикатуренной, но теперь уже скорее саркастически, чем иронически. «Север» представлен чиновником, читающим Кирджали приговор: «…краснорожий старичок в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали». «Восток» – Кирджали – прямо противоположен внешне: «Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изо-бражалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен». Очевидно, на чьей стороне авторская симпатия. Но в этом эпизоде есть странная и очень важная деталь – отступление о каруце. Это отступление расположено в композиционном и смысловом центре повествования, занимает довольно много места и мало относится к событиям повести (Кирджали собираются вести в Яс-сы в каруце – низенькой плетеной тележке). Само отступление (большой абзац, заключенный в скобки) скорее касается нравов молдавских возниц, чем собственно каруцы: «…тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом… Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями и бросал на дороге…». Пушкин мог бы воспользоваться здесь достаточно привычной для него сноской-комментарием. Но повесть «Кирджали» лишена комментариев. Другие «восточные» слова (например, «бешлыки», «гальбины», «клефты» и т. п.) вообще никак не объясняются (хотя являются редкими экзо-тизмами даже для той эпохи всеобщего увлечения Востоком). Важность отступления о каруце заключается, возможно, в последних словах: «Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу». Национальное своеобразие Бессарабии (рассматриваемое как восточное) понемногу стирается и вытесняется русскими обычаями. Бессарабия становится «обрусевшей», и это не на пользу восточному краю. Следствие обрусения в частности и выдача Кирджали в Яссы. Пятнадцать лет назад в Бессара-бии сохранялось еще сложное «балансирование» между «русским» («северным») и «национальным» («восточным»). Этим объясняется сочувствие провожавших каруцу «местных жителей» («Мужчины хранили молча-ние, женщины с жаром чего-то ожидали»): Кирджали для них «свой», а «краснорожий старичок» – чужак. Пушкин явно демонстрирует здесь свое отношение к «северному» диктату, рассуждая о границах его и о необходимости сохранить национальную самобытность. «Осеверение» Востока опасно – вырождаются лучшие черты нации. Так, когда Кирджали просит о защите своей семьи, остающейся в болгарской де-ревне, краснорожий старичок, испугавшись, отскакивает, а молодому человеку, не понявшему поведе-ние Кирджали, объясняет, «смеясь»: «Народ глупый-с». Эта черствость противостоит сочувствию мест-ных жителей. Не случайно Пушкин подчеркивает их «нерусскость»: «Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде, стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу».
Несколько слов о замысле поэмы «Кирджали»
Возникает достаточно странная и парадоксальная ситуация – «великий национальный поэт» выступает против своей нации. Это объяснимо не столько «отступничеством» и «непатриотизмом» Пушкина, сколько желанием видеть своих соотечественников людьми с умом и душою. Именно поэтому важнейший смысловой план здесь – проблема свободы личности. Кирджали оказывается последовательно самостоятельным и «автономным» от всяких влияний: ему не нужны «предводители», он оказывается способен ос-вободиться от плена, свободен Кирджали и от «гос-подаря»: «Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч левов, и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены». Свободу Кирджали обретает без всякой посторонней помощи, не благодаря «счастливым случайностям», а только опираясь на собственные действия, усилия. В 1834 году, когда создавалась повесть, проблема личной свободы в творческом сознании Пушкина обострилась в связи с рядом неприятных для него обстоятельств (он переживал по поводу унизительного назначения в камер-юнкеры: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам)». Пушкин на царя не роптал (тем более что в это время царь содействовал публикации «Истории Пугачева», которую внимательно прочитал, оставив «очень дельные» замечания), но чувствовал себя неуютно. Мысль об абсолютной свободе (особенно творческой) не раз волновала его. В 1836 году он скажет об этом: «Зави-сеть от царя, зависеть от народа – Бог с ними. Никому отчета не давать…». В 1834 году Пушкин встретился с М. Лексом (тем самым «молодым человеком с умом и сердцем»), который рассказал поэту в частности и о казни Кирджали в 1821 году. Финал повести Пушкина поэтому приобретает особый вес: герой свободен вопреки фактам. Пушкин не создает исторический портрет или «характер», он запечатлевает символ свободы как внутренней, так и внешней. Оппозиция «Север» – «Восток» осложняется самокритическим элементом. «Север» с «умом и сердцем» все равно оказывается неизмеримо ниже «Востока». Это прослеживается в реакции автора на рассказ молодого человека: «Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали». Хотя в целом рассказ об аресте выдержан в «героическом ключе» – Кирджали здесь «витязь», возвышенный и отважный человек, вызывающий восхищение, автор выражает не восторг и не уверенность в том, что Кирджали найдет способ обрес-ти свободу, а предположение о неминуемой гибели героя: Кирджали назван «бедным» и автору его «жаль». За этими словами стоит два возможных объяснения: с одной стороны, автор выражает сочувственное отношение к «государственному преступнику», «разбойнику» и «головорезу», что идет вразрез с «официальной» точкой зрения; это своеобразный вызов «вершителям судеб». Автор в этом случае – фрондер и оппозиционер. С другой стороны, в этих словах заключается точка зрения «простого смертного» на судьбу героя. Автор как «обыкновенный человек» понимает, что Кирджали находится в смертельной опасности, а словечко «бедный» показывает «подстановку» на место героя: «обыкновенный человек» ощущает свою (а следовательно, и Кирджали) беспомощность («Бедный «я» на его месте, бедный Кирджали»). «Север» с умом и сердцем хорошо знаком с неумолимостью власти. Но «Север» не знает о безграничной способности «Востока» бороться за свою свободу. Именно поэтому «придуманный» финал – это открытие, намек и урок повести.
О турках-сторожах Кирджали в скобках отмечается, что это «люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали». «Простой» и «разбойник» в данном случае – синонимы. Сторожа оказываются «карикатурными» – они не видят в Кирджали врага и стерегут его только потому, что так им велит начальство, а не по убеждению во враждебности Кирджали, как то должно было быть. И Кирджали, и турки – «люди Востока», подчеркивается «не-русскость» персонажей: «…они уважали его и с жадностию, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы». Так задается модель «Шехеразада – Шах-рияр». Сказки «Тысяча и одной ночи» для Пушкина всегда были образцом воссоздания восточного мироотношения. Эта книга входила в круг любимого до-машнего чтения с сестрой Ольгой, а в «Руслане и Людмиле» Пушкин прямо отсылает читателя к араб-ским сказкам за «восточными впечатлениями», сам же восточные красоты описывать отказывается:
…благо мне не надо
Описывать волшебный дом;
Уже давно Шехеразада
Меня предупредила в том…
Развязка повести – это арабская сказка (спрятанные сокровища, их романтические поиски и т. п.). В этой сказке действуют восточные характеры (неслучайно Кирджали дважды называет сторожей «братья»), но важнее перемена авторского отношения к герою. «Что за беда? Он один, нас семеро. – И турки развязали ему руки и дали ему атаган». Это почти дословный повтор просьбы-заклинания Кирджали: «Развяжите мне руки, дайте атаган». Семеро турок, полагающих, что в этом нет ничего страшного, не учитывают, что он один, но он Кирджали. Это не учитывал и автор в своем вздохе «жаль бедного Кирджали». В данном эпизоде становится ясно, почему автор так горячо сочувствует «разбойнику» – Кирджали добивается свободы в любой ситуации, не ожидая чудесной поддержки. «Северная» покорность чужда «восточному» герою. Как не позавидовать? И последняя фраза повести выражает и восхищенную зависть, и удовольствие от сознания произведенного рассказом эффекта: «Каков Кирджали?» Эта фраза возвращает нас к заглавию. Вот теперь можно осмыслить его с позиций прочитанного произведения: Кирджали – человек, умеющий быть свободным вопреки обстоятельствам, символ «самостоянья».